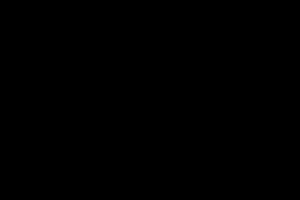Константин Гелргиевич Паустовский
«Повесть о жизни»
Однажды весной я сидел в Мариинском парке и читал «Остров сокровищ» Стивенсона. Сестра Галя сидела рядом и тоже читала. Ее летняя шляпа с зелёными лентами, лежала на скамейке. Ветер шевелил ленты, Галя была близорукая, очень доверчивая, и вывести её из добродушного состояния было почти невозможно.
Утром прошёл дождь, но сейчас над нами блистало чистое небо весны. Только с сирени слетали запоздалые капли дождя.
Девочка с бантами в волосах остановилась против нас и начала прыгать через верёвочку. Она мне мешала читать. Я потряс сирень. Маленький дождь шумно посыпался на девочку и на Галю. Девочка показала мне язык и убежала, а Галя стряхнула с книги капли дождя и продолжала читать.
И вот в эту минуту я увидел человека, который надолго отравил меня мечтами о несбыточном моем будущем.
По аллее легко шёл высокий гардемарин с загорелым спокойным лицом. Прямой чёрный палаш висел у него на лакированном поясе. Чёрные ленточки с бронзовыми якорями развевались от тихого ветра. Он был весь в чёрном. Только яркое золото нашивок оттеняло его строгую форму.
В сухопутном Киеве, где мы почти не видели моряков, это был пришелец из далёкого легендарного мира крылатых кораблей, фрегата «Паллада», из мира всех океанов, морей, всех портовых городов, всех ветров и всех очарований, какие связаны были с живописным трудом мореплавателей. Старинный палаш с черным эфесом как будто появился в Мариинском парке со страниц Стивенсона.
Гардемарин прошёл мимо, хрустя по песку. Я поднялся и пошёл за ним. Галя по близорукости не заметила моего исчезновения.
Вся моя мечта о море воплотилась в этом человеке. Я часто воображал себе моря, туманные и золотые от вечернего штиля, далёкие плаванья, когда весь мир сменяется, как быстрый калейдоскоп, за стёклами иллюминатора. Боже мой, если бы кто-нибудь догадался подарить мне хотя бы кусок окаменелой ржавчины, отбитой от старого якоря! Я бы хранил его, как драгоценность.
Гардемарин оглянулся. На чёрной ленточке его бескозырки я прочёл загадочное слово: «Азимут». Позже я узнал, что так назывался учебный корабль Балтийского флота.
Я шёл за ним по Елизаветинской улице, потом по Институтской и Николаевской. Гардемарин изящно и небрежно отдавал честь пехотным офицерам. Мне было стыдно перед ним за этих мешковатых киевских вояк.
Несколько раз гардемарин оглядывался, а на углу Меринговской остановился и подозвал меня.
— Мальчик, — спросил он насмешливо, — почему вы тащились за мной на буксире?
Я покраснел и ничего не ответил.
— Все ясно: он мечтает быть моряком, — догадался гардемарин, говоря почему-то обо мне в третьем лице.
— Дойдём до Крещатика.
Мы пошли рядом. Я боялся поднять глаза и видел только начищенные до невероятного блеска крепкие ботинки гардемарина.
На Крещатике гардемарин зашёл со мной в кофейную Семадени, заказал две порции фисташкового мороженого и два стакана воды. Нам подали мороженое на маленький трёхногий столик из мрамора. Он был очень холодный и весь исписан цифрами: у Семадени собирались биржевые дельцы и подсчитывали на столиках свои прибыли и убытки.
Мы молча съели мороженое. Гардемарин достал из бумажника фотографию великолепного корвета с парусной оснасткой и широкой трубой и протянул мне.
— Возьмите на память. Это мой корабль. Я ходил на нем в Ливерпуль.
Он крепко пожал мне руку и ушёл. Я посидел ещё немного, пока на меня не начали оглядываться потные соседи в канотье. Тогда я неловко вышел и побежал в Мариинский парк. Скамейка была пуста. Галя ушла. Я догадался, что гардемарин меня пожалел, и впервые узнал, что жалость оставляет в душе горький осадок.
После этой встречи желание сделаться моряком мучило меня много лет. Я рвался к морю. Первый раз я видел его мельком в Новороссийске, куда ездил на несколько дней с отцом. Но этого было недостаточно.
Часами я просиживал над атласом, рассматривал побережья океанов, выискивал неизвестные приморские городки, мысы, острова, устья рек.
Я придумал сложную игру. Я составил длинный список пароходов со звучными именами: «Полярная звезда», «Вальтер Скотт», «Хинган», «Сириус». Список этот разбухал с каждым днём. Я был владельцем самого большого флота в мире.
Конечно, я сидел у себя в пароходной конторе, в дыму сигар, среди пёстрых плакатов и расписаний. Широкие окна выходили, естественно, на набережную. Жёлтые мачты пароходов торчали около самых окон, а за стенами шумели добродушные вязы. Пароходный дым развязно влетал в окна, смешиваясь с запахом гнилого рассола и новеньких, весёлых рогож.
Я придумал список удивительных рейсов для своих пароходов. Не было самого забытого уголка земли, куда бы они не заходили. Они посещали даже остров Тристан да-Кунью.
Я снимал пароходы с одного рейса и посылал на другой. Я следил за плаваньем своих кораблей и безошибочно знал, где сегодня «Адмирал Истомин», а где «Летучий голландец»: «Истомин» грузит бананы в Сингапуре, а «Летучий голландец» разгружает муку на Фарерских островах.
Для того чтобы руководить таким обширным пароходным предприятием, мне понадобилось много знаний. Я зачитывался путеводителями, судовыми справочниками и всем, что имело хотя бы отдалённое касательство к морю.
Тогда впервые я услышал от мамы слово «менингит».
— Он дойдёт бог знает до чего со своими играми, — сказала однажды мама. — Как бы все это не кончилось менингитом.
Я слышал, что менингит — это болезнь мальчиков, которые слишком рано научились читать. Поэтому я только усмехнулся на мамины страхи.
Все окончилось тем, что родители решили поехать всей семьёй на лето к морю.
Теперь я догадываюсь, что мама надеялась вылечить меня этой поездкой от чрезмерного увлечения морем. Она думала, что я буду, как это всегда бывает, разочарован от непосредственного столкновения с тем, к чему я так страстно стремился в мечтах. И она была права, но только отчасти.
Однажды мама торжественно объявила, что на днях мы на все лето уезжаем на Чёрное море, в маленький городок Геленджик, вблизи, Новороссийска.
Нельзя было, пожалуй, выбрать лучшего места, чем Геленджик, для того чтобы разочаровать меня в моем увлечении морем и югом.
Геленджик был тогда очень пыльным и жарким городком без всякой растительности. Вся зелень на много километров вокруг была уничтожена жестокими новороссийскими ветрами — норд-остами. Только колючие кусты держи-дерева и чахлая акация с жёлтыми сухими цветочками росли в палисадниках. От высоких гор тянуло зноем. В конце бухты дымил цементный завод.
Но геленджикская бухта была очень хороша. В прозрачной и тёплой её воде плавали, как розовые и голубые цветы, большие медузы. На песчаном дне лежали пятнистые камбалы и пучеглазые бычки. Прибой выбрасывал на берег красные водоросли, гнилые поплавки-балберки от рыбачьих сетей и обкатанные волнами куски темно-зелёных бутылок.
Море после Геленджика не потеряло для меня своей прелести. Оно сделалось только более простым и тем самым более прекрасным, чем в моих нарядных мечтах.
В Геленджике я подружился с пожилым лодочником Анастасом. Он был грек, родом из города Воло. У него была новая парусная шлюпка, белая с красным килем и вымытым до седины решётчатым настилом.
Анастас катал на шлюпке дачников. Он славился ловкостью и хладнокровием, и мама иногда отпускала меня одного с Анастасом.
Однажды Анастас вышел со мной из бухты в открытое море. Я никогда не забуду того ужаса и восторга, какие я испытал, когда парус, надувшись, накренил шлюпку так низко, что вода понеслась на уровне борта. Шумящие огромные валы покатились навстречу, просвечивая зеленью и обдавая лицо солёной пылью.
Я схватился за ванты, мне хотелось обратно на берег, но Анастас, зажав трубку зубами, что-то мурлыкал, а потом спросил:
— Почём твоя мама отдала за эти чувяки? Ай, хороши чувяки!
Он кивнул на мои мягкие кавказские туфли — чувяки. Ноги мои дрожали. Я ничего не ответил. Анастас зевнул и сказал:
— Ничего! Маленький душ, тёплый душ. Обедать будешь с аппетитом. Не надо будет просить — скушай за папу-маму!
Он небрежно и уверенно повернул шлюпку. Она зачерпнула воду, и мы помчались в бухту, ныряя и выскакивая на гребни волн. Они уходили из-под кормы с грозным шумом. Сердце у меня падало и обмирало.
Неожиданно Анастас запел. Я перестал дрожать и с недоумением слушал эту песню:
От Батума до Сухума -Ай-вай-вай!
От Сухума до Батума -Ай-вай-вай!
Бежал мальчик, тащил ящик -Ай-вай-вай!
Упал мальчик, разбил ящик -Ай-вай-вай!
Под эту песню мы спустили парус и с разгона быстро подошли к пристани, где ждала бледная мама. Анастас поднял меня на руки, поставил на пристань и сказал:
— Теперь он у вас солёный, мадам. Уже имеет к морю привычку.
Однажды отец нанял линейку, и мы поехали из Геленджика на Михайловский перевал.
Сначала щебёнчатая дорога шла по склону голых и пыльных гор. Мы проезжали мосты через овраги, где не было ни капли воды. На горах весь день лежали, зацепившись за вершины, одни и те же облака из серой сухой ваты.
Мне хотелось пить. Рыжий извозчик-казак оборачивался и говорил, чтобы я повременил до перевала — там я напьюсь вкусной и холодной воды. Но я не верил извозчику. Сухость гор и отсутствие воды пугали меня. Я с тоской смотрел на тёмную и свежую полоску моря. Из него нельзя было напиться, но, по крайней мере, можно било выкупаться в его прохладной воде.
Дорога подымалась все выше. Вдруг в лицо нам потянуло свежестью.
— Самый перевал! — сказал извозчик, остановил лошадей, слез и подложил под колеса железные тормоза.
С гребня горы мы увидели огромные и густые леса. Они волнами тянулись по горам до горизонта. Кое-где из зелени торчали красные гранитные утёсы, а вдали я увидел вершину, горевшую льдом и снегом.
— Норд-ост сюда не достигает, — сказал извозчик. — Тут рай!
Линейка начала спускаться. Тотчас густая тень накрыла нас. Мы услышали в непролазной чаще деревьев журчание воды, свист птиц и шелест листвы, взволнованной полуденным ветром.
Чем ниже мы спускались, тем гуще делался лес и тенистее Дорога. Прозрачный ручей уже бежал по её обочине. Он перемывал разноцветные камни, задевал своей струёй лиловые цветы и заставлял их кланяться и дрожать, но не мог оторвать от каменистой земли и унести с собою вниз, в ущелье.
Мама набрала воды из ручья в кружку и дала мне напиться. Вода была такая холодная, что кружка тотчас покрылась потом.
— Пахнет озоном, — сказал отец.
Я глубоко вздохнул. Я не знал, чем пахло вокруг, но мне казалось, что меня завалили ворохом веток, смоченных душистым дождём.
Лианы цеплялись за наши головы. И то тут, то там на откосах дороги высовывался из-под камня какой-нибудь мохнатый цветок и с любопытством смотрел на нашу линейку и на серых лошадей, задравших головы и выступавших торжественно, как на параде, чтобы не сорваться вскачь и не раскатить линейку.
— Вон ящерица! — сказала мама. Где?
— Вон там. Видишь орешник? А налево — красный камень в траве. Смотри выше. Видишь жёлтый венчик? Это азалия. Чуть правее азалии, на поваленном буке, около самого корня. Вон, видишь, такой мохнатый рыжий корень в сухой земле и каких-то крошечных синих цветах? Так вот рядом с ним.
Я увидел ящерицу. Но пока я её нашёл, я проделал чудесное путешествие по орешнику, красному камню, цветку азалии и поваленному буку.
«Так вот он какой, Кавказ!» — подумал я.
— Тут рай! — повторил извозчик, сворачивая с шоссе на травянистую узкую просеку в лесу. — Сейчас распряжём коней, будем купаться.
Мы въехали в такую чащу и ветки так били нас по лицу, что пришлось остановить лошадей, слезть с линейки и идти дальше пешком. Линейка медленно ехала следом за нами.
Мы вышли на поляну в зелёном ущелье. Как белые острова, стояли в сочной траве толпы высоких одуванчиков. Под густыми буками мы увидели старый пустой сарай. Он стоял на берегу шумной горной речонки. Она туго переливала через камни прозрачную воду, шипела и уволакивала вместе с водой множество воздушных пузырей.
Пока извозчик распрягал и ходил с отцом за хворостом для костра, мы умылись в реке. Лица наши после умывания горели жаром.
Мы хотели тотчас идти вверх по реке, но мама расстелила на траве скатерть, достала провизию и сказала, что, пока мы не поедим, она никуда нас не пустит.
Я, давясь, съел бутерброды с ветчиной и холодную рисовую кашу с изюмом, но оказалось, что я совершенно напрасно торопился — упрямый медный чайник никак не хотел закипать на костре. Должно быть, потому, что вода из речушки была совершенно ледяная.
Потом чайник вскипел так неожиданно и бурно, что залил костёр. Мы напились крепкого чая и начали торопить отца, чтобы идти в лес. Извозчик сказал, что надо быть настороже, потому что в лесу много диких кабанов. Он объяснил нам, что если мы увидим вырытые в земле маленькие ямы, то это и есть места, где кабаны спят по ночам.
Мама заволновалась — идти с нами она не могла, у неё была одышка, — но извозчик успокоил её, заметив, что кабана нужно нарочно раздразнить, чтобы он бросился на человека.
Мы ушли вверх по реке. Мы продирались сквозь чащу, поминутно останавливались и звали друг друга, чтобы показать гранитные бассейны, выбитые рекой, — в них синими искрами проносилась форель, — огромных зелёных жуков с длинными усами, пенистые ворчливые водопады, хвощи выше нашего роста, заросли лесной анемоны и полянки с пионами.
Боря наткнулся на маленькую пыльную яму, похожую на детскую ванну. Мы осторожно обошли её. Очевидно, это было место ночёвки дикого кабана.
Отец ушёл вперёд. Он начал звать нас. Мы пробрались к нему сквозь крушину, обходя огромные мшистые валуны.
Отец стоял около странного сооружения, заросшего ежевикой. Четыре гладко обтёсанных исполинских камня были накрыты, как крышей, пятым обтёсанным камнем. Получался каменный дом. В одном из боковых камней было пробито отверстие, но такое маленькое, что даже я не мог в него пролезть. Вокруг было несколько таких каменных построек.
— Это долмены, — сказал отец. — Древние могильники скифов. А может быть, это вовсе и не могильники. До сих пор учёные не могут узнать, кто, для чего и как строил эти долмены.
Я был уверен, что долмены — это жилища давно вымерших карликовых людей. Но я не сказал об этом отцу, так как с нами был Боря: он поднял бы меня на смех.
В Геленджик мы возвращались совершенно сожжённые солнцем, пьяные от усталости и лесного воздуха. Я уснул и сквозь сон почувствовал, как на меня дохнуло жаром, и услышал отдалённый ропот моря.
С тех пор я сделался в своём воображении владельцем ещё одной великолепной страны — Кавказа. Началось увлечение Лермонтовым, абреками, Шамилем. Мама опять встревожилась.
Сейчас, в зрелом возрасте, я с благодарностью вспоминаю о детских своих увлечениях. Они научили меня многому.
Но я был совсем не похож на захлёбывающихся слюной от волнения шумных и увлекающихся мальчиков, никому не дающих покоя. Наоборот, я был очень застенчивый и со своими увлечениями ни к кому не приставал.
Я сидел в Мариинском парке и спокойно читал «Остров сокровищ» Стивенсона. Утром прошёл грустный дождь, но блистало чистое небо весны. С сирени слетали крупные и запоздалые капли дождя. Я потряс сирень и посыпался маленький дождик. В эту минуту я увидел человека, который надолго отравил даже меня мечтами о несбыточном моём будущем.
По дороге шёл высокий молодой моряк с загорелым и спокойным лицом. Прямой чёрный палаш висел у него на лакированном поясе. Чёрные ленточки с бронзовыми якорями развевались от тихого ветра. Гардемарин прошёл мимо, хрустя по песку. Я пошёл за ним. Я часто представлял себе моря, туманные и золотые от вечернего штиля, далёкие плавания, когда весь мир сменяется за стёклами иллюминатора. Гардемарин оглянулся. На чёрной ленте бескозырки было написано «Азимут».Часами я просиживал над атласами, долго рассматривал побережья океанов, искал приморские мысы, устья рек.
Однажды я с родителями поехал к Чёрному морю на всё лето. Городок, куда мы приехали, был маленький и находился возле Новороссийска. Городок был очень пыльным и жарким, а вся зелень уничтожена ветрами. Колючие кусты и чахлая акация с жёлтыми сухими цветочками росли в палисадниках. От высоких гор тянуло зноем. В конце бухты дымил цементный завод. На бухте было хорошо. В прозрачной и тёплой воде плавали большие медузы, а на песчаном дне лежали пятнистые камбалы и пучеглазые бычки. Прибой выбрасывал на берег красные водоросли, а также, обкатанные куски бутылок.
В Геленджике я подружился с лодочником, который был греком и родом из гор Волом. У него была парусная белая шлюпка с красным штилем и вымытым, до середины настилом. Он катал дачников на своей шлюпке, прославившись ловкостью так, что мама отпускала меня с ним в открытое море.
Ещё мы поехали на Михайловский перевал. Дорога из щебня шла по склону голых гор, и мы проезжали мосты через овраги, где не было воды и хотелось пить. С гребня горы, виднелись огромные и густые леса, которые волнами тянулись по горам до горизонта. Были слышны в чаще журчанье воды, свист птиц и шелест травы, взволнованной полуденным ветром. Лес стал густеть, а ручей бежал по обочине, перемывая камушки. Напившись воды из ручья, мы двинулись дальше.
Мы вышли на поляну. Толпы высоких одуванчиков стояли в высокой траве, а под буками мы увидели пустой сарай, который стоял на берегу шумной реки, где она шипела и тянула прозрачную воду с множеством пузырей. Мы умылись в реке, а лица наши сразу загорелись жаром. Мы сделали перевал. Мама достала еду. Подкрепившись и напившись горячего чая, мы стали торопить отца, чтобы идти в лес. Наш путь пролегал вверх по реке. Часто останавливаясь, звали друг друга, чтобы показать гранитные бассейны, выбитые рекой, в которой проносилась искрами форель.
Отец стоял возле странного каменного сооружения, заросшего травой. В одном из боковых камней пробито отверстие. Вокруг стояли какие-то постройки. Отец сказал, что это древние могильники скифов.
Теплым весенним днем мы с сестрой Галей сидели в Мариинском парке и читали. Рядом с нами на скамейке лежала шляпа Гали с зелеными ленточками, которые нежно шевелил ветер. Сестра была очень близорука и очень доверчива. У нее всегда было спокойное добродушное состояние, вывести из которого её было практически невозможно.
Утренний дождик закончился? и небо над нами блистало чистотой. Только с куста сирени запоздалые капли тихонько скатывались вниз.
Маленькая девочка с бантами остановилась напротив нас и начала прыгать через скакалку. Мне это мешало читать, и я решил немного потрясти сирень. Капельки дождя брызнули на девочку и попали на Галю. Девочка обиженно показала язык и убежала, а Галя просто стряхнула капельки с книги и продолжила читать. В этот момент я увидел человека, который надолго поселил в мою голову несбыточные мысли о моем необыкновенном будущем.
По аллее парка шагал высокий моряк, лицо его было спокойное и загорелое. Развевались от ветра черные ленточки с якорями. Одет он был во все черное, строгость формы оттеняли только горевшие золотом нашивки.
Киев - город сухопутный, поэтому моряков здесь увидеть было почти не возможно. Незнакомец шел, как герой из другого мира, где качается на волнах фрегат «Паллада», мира океанов, порей и портов, всех приключений и увлекательных путешествий, которые ассоциируются с жизнью мореплавателей. В Мариинском парке как будто появился герой книги Стивенсона, которую я в тот момент читал.
Статный гардемарин, хрустя песком, прошел мимо нашей скамейки. Я не смог удержаться и пошел следом. Галя из-за своей близорукости не сразу заметила, что я исчез.
Сейчас для меня этот человек был воплощение вех мальчишеских грез о путешествиях и морских сражениях. Я часто представлял себе, как смотрю на море с палубы корабля и вижу туманные берега или золотую от заката волну; уходил в далекое плавание и наблюдал как меняется мир за стеклом иллюминатора, как будто кто-то вращает калейдоскоп. Я так страстно любил море, что если бы кто-то подарил мне кусочек старинного ржавого якоря, это было бы дороже, чем любая драгоценность.
Когда моряк оглянулся, я прочитал на его бескозырке непонятное слово «Азимут». Потом мне стало известно, что это было название учебного корабля Балтийского флота.
Я шел за ним по одной улице, потом по другой и наблюдал, как изящно гардемарин отдавал честь встречающимся офицерам пехоты. Я даже испытывал неловкость за этих мешковатых вояк. Оглянувшись в очередной раз, моряк на углу Маринговской улицы остановился, позвал меня и насмешливо спросил: «Мальчик, зачем вы все время тащитесь за мной на буксире»?». Я смутился и не ответил ему.
-_Ну, понятно, наверно, он мечтает стать моряком, - сделал вывод гардемарин, говоря обо мне почему-то в третьем лице.
Я не смогу, у меня близорукость, - ответил я осипшим от волнения голосом.
Моряк положил руку мне на плечо и сказал: «Пошли до Крещатика». И мы пошагали рядом. Мне страшно было поднять глаза, поэтому передо мной были только зеркально начищенные морские ботинки.
На Крещатике мы зашли в кофейню Семаниди, где гардемарин заказал для нас воды и фисташкового мороженого. Подали все это на мраморный трехногий столик, холодный и исписанный цифрами. В этой кофейне собирались биржевые дельцы, которые подсчитывали свою прибыль и убытки прямо на столиках.
Мы ели мороженое и молчали. Потом моряк открыл бумажник и достал фотографию, на которой был изображен величественный корвет с великолепными парусами и широкой трубой. Протягивая мне фотографию, он сказал: «Оставь себе на память. Это мой корабль. На нем мы ходили в Ливерпуль». После чего крепко, по-мужски пожал мне руку и ушел.
Я решил еще немного посидеть, но соседи в канотье стали подозрительно оглядываться, и я неловко вышел и сразу направился в Мариинский парк. Конечно, Галя уже ушла, а я понял, что моряк меня просто пожалел. В этот момент я впервые почувствовал, какой горький осадок оставляет в душе жалость.
Эта встреча на много лет все мои мысли направила в одну сторону - я рвался в море. Первый раз увидел я бескрайнюю синюю гладь, когда ездил с отцом в Новороссийск. Но этого мне было мало. Чтобы лучше понять море, я часами рассматривал в атласе океанские побережья, отыскивал неизвестные приморские местечки, острова, мысы.
У меня была своя интересная и сложная игра. Я составил список кораблей, которым дал красивые звучные имена: «Вальтер Скотт», «Сириус», «Полярная звезда». И с каждым днем в этом списке прибавлялось все больше и больше пароходов. Я был владельцем флотилии, с которой не могла сравнится никакая другая в мире.
Конечно, будучи хозяином, я представлял себя сидящим в главной пароходной конторе, окруженным дымом сигар и пестрыми плакатами с расписаниями. Конечно, вид из окон конторы был на набережную, а около больших окон виднелись желтые мачты кораблей и добродушные вязы. Весело влетал в окна пароходный дым, смешиваясь с запахами порта.
Для своих пароходов у меня были придуманы самые удивительные и необычные рейсы вовсе уголки земли. Посещали корабли даже остров Тристан да-Кунью. Я сам распределял рейсы, мог снять один пароход и заменить его на другой, четко отслеживал, где находятся мои корабли, и мог безошибочно указать местонахождение на сегодняшний день «Адмирала Истомина» или «Летучего голландца». «Истомин» занят погрузкой бананов в Сингапуре, а «Голландец» уже разгрузил муку на Фарерских островах.
Такое большое предприятие требовало грамотного руководства, поэтому я решил получить достаточно знаний и почти наизусть выучил путеводители, зачитывался судовыми справочниками и любой литературой, которая хотя бы отдаленно имела отношение к морю.
Тогда я впервые в жизни услышал слово «менингит». Мама сказала: «Эти игры могут довести его до менингита». Но по моим сведениям, менингит был болезнью мальчиков, слишком рано начавших читать. Поэтому я с улыбкой воспринял мамины слова.
И вот мои родители собрались всей семьей ехать к морю. Теперь мне понятно, что мама хотела этой поездкой охладить мою страсть к морской теме. Она решила, что, столкнувшись непосредственно с предметом моих страстных мечтаний, я обязательно буду разочарован. И оказалось, что она думала правильно, но только отчасти.
Настал день, когда мама торжественно сообщила о предстоящей поездке к Черному морю в Геленджик - небольшой городок около Новороссийска. Лучшего места, чтобы разочароваться в море и юге, найти было нельзя.
Геленджик представлял собой в то время пыльный и жаркий городок, в котором совершенно не было никакой растительности. Зелень на много километров вокруг не могла противостоять жестоким новороссийским ветрам. Их выдерживали только чахлые акации с сухими цветочками и колючее держи-дерево, которые из всех растений можно было встретить в палисадниках. Дополняли картину горы, от которых тянуло зноем и дымящийся в конце бухты цементный завод.
Но в бухте Геленджика было много прелестей. Чистая и теплая вода, в которой плавали похожие на экзотические цветы медузы голубых и розовых оттенков. Через прозрачные волны было видно песчаное дно с лежащими на нем пучеглазыми бычками и пятнистыми камбалами. Во время прибоя на берег выбрасывало красные водоросли, поплавки от сетей и зеленые осколки бутылок с ровными обкатанными волнами краями.
Нет, после Геленджика море нисколько не потеряло для меня своей привлекательности. Но теперь оно стало более простым и близким и поэтому еще более прекрасным, чем я представлял его в своих разноцветных мечтах.
Во время отдыха я подружился с лодочником Анастасом - пожилым греком родом из Воло. Он зарабатывал тем, что катал на своей лодке дачников и был знаменит среди населения Геленджика своим хладнокровием, силой и ловкостью.
Его парусная шлюпка была новая, с ярким красным килем и решетчатым настилом, отмытым до белизны. Мама разрешала иногда мне одному уходить в море с Анастасом.
Однажды мы вышли на лодке в открытое море. Я тогда в первый раз испытал одновременно чувство ужаса и безумного восторга, когда парус, надувшись под ветром, так наклонил шлюпку, что вода почти захлестнула борт. Я почувствовал, как огромные волны покатились навстречу и на лицо брызнули капли соленой воды.
Я, испугавшись, ухватился руками за ванты и почувствовал острое желание вернуться на берег. Но Анастас только мурлыкал что-то, зажав трубку в зубах. Потом как ни в чем не бывало, спросил: «Сколько твоя мама заплатила за эти чувяки, уж больно хороши?». И кивнул головой в сторону моих новых кавказских туфель - чувяков. Я чувствовал, как дрожат мои ноги и не мог ничего ответить. Анастас же зевнул и спокойно сказал: «Очень хороший маленький теплый душ. Теперь будешь с аппетитом обедать и не надо уговаривать - «за маму», «за папу».
Он уверенно и немного небрежно повернул лодку, которая чуть зачерпнув воду, помчалась обратно в бухту. Мы летели выскакивая и вновь ныряя в гребни волн, которые с угрожающим шумом убегали из-под кормы. Каждый раз я чувствовал, как сердце у меня обмирает и падет. Вдруг Анастас затянул песню. Моя дрожь прекратилась, и я с интересом слушал, как!от Сухума до Батума бежал мальчик и тащил ящик». Вот под эту песню мы, опустив парус, и причалили к берегу, где ждала побледневшая мама.
Подняв меня и поставив на пристань Анастас сказал: «Теперь он у вас, мадам, солёный и приобрел привычку к морю».
В один из дней отец решил нанять линейку и проехать от Геденджика до Михайловского перевала. Дорога шла по склону гор, пыльных и почти голых. Мы миновали мосты и овраги, а на вершинах гор лежали одинаковые облака, как будто сделанные из сухой ваты.
Я очень хотел пить. Но извозчик - рыжий казак говорил, что нужно потерпеть до перевала, где вдоволь чистой и вкусной воды. Мне не очень верилось и сухие горы с отсутствием воды вызывали тягостные чувства. Я тоскливо смотрел на темнеющую вдали полоску моря. Конечно, морской водой нельзя было напиться, но зато можно искупаться, ощутив прохладу и свежесть. Когда дорога поднялась выше, мы почувствовали дуновение ветерка.
Вот и перевал! - радостно объявил извозчик и, остановив лошадей, укрепилил железные тормоза под колеса повозки.
С высоты горы нам открылся чудесный вид на огромные густые леса, которые тянулись до самого горизонта. Иногда из зеленых волн показывались красные утесы, а вдали горела льдом и снегом вершина.
Здесь деревьям не грозит ветер, поэтому тут - рай, - сказал извозчик.
Мы стали спускаться и почувствовали, как нас накрыла густая тень. В лесной чаще было слышно журчание воды, разноголосое птичье пение и шелест листьев, тронутых легким ветром.
Спускаясь все ниже, мы наблюдали, как лес становился все гуще, а дорога все более тенистой. По ее краю бежал прозрачный ручеек. Своей водой он промывал камушки разных цветов, касался, пробегая, лиловых цветов, которые дрожали и кланялись до земли, но не мог их совсем оторвать и забрать с собой.
Мама набрала в кружку воду из ручейка и дала мне пить. Вода была настолько холодной, что кружка сразу покрылась капельками влаги.
Я сделал глубокий вздох. Отец сказал, что пахнет озоном, но я не мог определить, что за запах вокруг. Мне казалось, что я нахожусь под целым ворохом душистых зеленых веток, смоченных дождем.
Я чувствовал, как за голову цепляется лиана. По дороге то тут, то там появлялся какой-нибудь яркий цветок и из-под камня глядел с любопытством на нас и лошадей, которые вышагивали чинно, как на параде, чтобы не раскачать линейку.
Мама показала мне ящерицу. Она пряталась за красным камнем, возле которого росла желтая азалия и торчал рыжий мохнатый корень. Я увидел ее, но пока я искал ее взглядом, проделал путешествие с множеством удивительных открытий по орешнику, цветам, корням и деревьям и подумал: «Вот какой он, настоящий Кавказ».
Тут рай, - как будто продолжил мои мысли извозчик и свернул с шоссе на просеку в лесу. - Я сейчас распрягу коней, потом будем купаться.
Мы попали в густую чащу. Ветки деревьев так били нас по лицу, что пришлось пойти пешком, а линейка потихоньку двигалась за нами.
Наконец перед нами открылась поляна, расположенная в зеленом ущелье. Высокие одуванчики стояли в зеленой траве, как белые острова. На берегу горной гечушки под густыми буками стоял старый сарай.
Извозчик распрягал лошадей, потом вместе с отцом пошел за хворостом. Мы пока решили умыться в реке. Вода была холодная, и наши лица после умывания как будто горели огнем.
Мы хотели сразу пойти по реке вверх, но мама сказала, что никуда нас не пустит, пока мы не перекусим. Она расстелила на траве скатерть и достала продукты.
Я торопился и, давясь, проглотил бутерброды и остывшую кашу с изюмом. Но оказалось, что совершенно зря так старался - медный чайник упрямо не хотел закипать на костре, Наверно, виновата была ледяная вода из горной речушки. А когда все же закипел, то так бурно и неожиданно, что костер оказался залит. Когда мы напились чая, стали торопить отца пойти в лес. Извозчик предупредил, что в лесу надо быть очень осторожными, потому что можно встретить диких кабанов. И если мы заметим небольшие вырытые в земле ямы, то должны знать, что это места, где кабаны спят ночью.
Мама не могла с нами идти из-за отдышки и очень разволновалась. Но извозчик успокоил ее, сказав, что кабан бросается на человека, только если его специально раздразнить.
И мы отправились путешествовать вверх по реке. Вокруг было столько чудесного, что ежеминутно останавливаясь, мы окликали друг друга и показывали выбитые рекой гранитные бассейны, огромных лесных жуков, выше человеческого роста хвощи, бурлящие пенистые водопады и цветущие поляны.
Увидели мы и маленькую пыльную ямку, вырытую в земле. Это, наверно, и было место кабаньей ночевки. Отец прошел вперед и позвал нас. Пробравшись к нему через крушины, обойдя валуны огромных размеров, мы увидели загадочное сооружение, заросшее кустами ежевики. Оно представляло собой хорошо обтесанные исполинские камни, четыре из которых стояли опорами, а пятый лежал сверху. Все это напоминала каменный дом. Мы увидели в одном из камней маленькое отверстие, даже я не мог бы в него пролезть. Еще несколько подобных каменных домов стояло вокруг.
Эти постройки - древние могильники скифов, называемые долмены, - сказал отец. - Хотя до сих пор ученые не до конца уверены, что это на самом деле могильники, ведь так и не удается узнать, кто и зачем строил такие долмены.
Я же был уверен, что в таких сооружениях жили давно вымершие карликовые люди. Но не стал говорить об этом никому, боясь, что меня поднимут на смех.
Обратно в Геленджик мы пришли совершенно спаленные солнцем, безумно уставшие и пьянее от лесных запахов. Когда я уснул, сквозь сон услышал доносившийся шум моря.
Наша поездка дала мне толчок к новому увлечению. Теперь это был Кавказ. Я стал в своих мечтах не только владельцем множества кораблей, но и замечательной страны - Кавказа. Теперь меня интересовали Лермонтов, Шамиль, абреки и все, что связано с этой страной.
Мама, конечно, опять беспокоилась за меня, но я благодарен своим детским увлечениям. Они много дали мне для жизни, очень многому научили. Но я был совсем не такой шумный мальчишка, который никому не дает покоя своими мечтами. Я, наоборот, был очень тихий и застенчивый, не считая нужным никому надоедать со своими увлечениями.
Обращаем ваше внимание, что это только краткое содержание литературного произведения «Повесть о жизни». В данном кратком содержании упущены многие важные моменты и цитаты.
Читается за 15 минут
Однажды весной я сидел в Мариинском парке и читал «Остров сокровищ» Стивенсона. Сестра Галя сидела рядом и тоже читала. Ее летняя шляпа с зелёными лентами, лежала на скамейке. Ветер шевелил ленты, Галя была близорукая, очень доверчивая, и вывести её из добродушного состояния было почти невозможно.
Утром прошёл дождь, но сейчас над нами блистало чистое небо весны. Только с сирени слетали запоздалые капли дождя.
Девочка с бантами в волосах остановилась против нас и начала прыгать через верёвочку. Она мне мешала читать. Я потряс сирень. Маленький дождь шумно посыпался на девочку и на Галю. Девочка показала мне язык и убежала, а Галя стряхнула с книги капли дождя и продолжала читать.
И вот в эту минуту я увидел человека, который надолго отравил меня мечтами о несбыточном моем будущем.
По аллее легко шёл высокий гардемарин с загорелым спокойным лицом. Прямой чёрный палаш висел у него на лакированном поясе. Чёрные ленточки с бронзовыми якорями развевались от тихого ветра. Он был весь в чёрном. Только яркое золото нашивок оттеняло его строгую форму.
В сухопутном Киеве, где мы почти не видели моряков, это был пришелец из далёкого легендарного мира крылатых кораблей, фрегата «Паллада», из мира всех океанов, морей, всех портовых городов, всех ветров и всех очарований, какие связаны были с живописным трудом мореплавателей. Старинный палаш с черным эфесом как будто появился в Мариинском парке со страниц Стивенсона.
Гардемарин прошёл мимо, хрустя по песку. Я поднялся и пошёл за ним. Галя по близорукости не заметила моего исчезновения.
Вся моя мечта о море воплотилась в этом человеке. Я часто воображал себе моря, туманные и золотые от вечернего штиля, далёкие плаванья, когда весь мир сменяется, как быстрый калейдоскоп, за стёклами иллюминатора. Боже мой, если бы кто-нибудь догадался подарить мне хотя бы кусок окаменелой ржавчины, отбитой от старого якоря! Я бы хранил его, как драгоценность.
Гардемарин оглянулся. На чёрной ленточке его бескозырки я прочёл загадочное слово: «Азимут». Позже я узнал, что так назывался учебный корабль Балтийского флота.
Я шёл за ним по Елизаветинской улице, потом по Институтской и Николаевской. Гардемарин изящно и небрежно отдавал честь пехотным офицерам. Мне было стыдно перед ним за этих мешковатых киевских вояк.
Несколько раз гардемарин оглядывался, а на углу Меринговской остановился и подозвал меня.
Мальчик, - спросил он насмешливо, - почему вы тащились за мной на буксире?
Я покраснел и ничего не ответил.
Все ясно: он мечтает быть моряком, - догадался гардемарин, говоря почему-то обо мне в третьем лице.
Дойдём до Крещатика.
Мы пошли рядом. Я боялся поднять глаза и видел только начищенные до невероятного блеска крепкие ботинки гардемарина.
На Крещатике гардемарин зашёл со мной в кофейную Семадени, заказал две порции фисташкового мороженого и два стакана воды. Нам подали мороженое на маленький трёхногий столик из мрамора. Он был очень холодный и весь исписан цифрами: у Семадени собирались биржевые дельцы и подсчитывали на столиках свои прибыли и убытки.
Мы молча съели мороженое. Гардемарин достал из бумажника фотографию великолепного корвета с парусной оснасткой и широкой трубой и протянул мне.
Возьмите на память. Это мой корабль. Я ходил на нем в Ливерпуль.
Он крепко пожал мне руку и ушёл. Я посидел ещё немного, пока на меня не начали оглядываться потные соседи в канотье. Тогда я неловко вышел и побежал в Мариинский парк. Скамейка была пуста. Галя ушла. Я догадался, что гардемарин меня пожалел, и впервые узнал, что жалость оставляет в душе горький осадок.
После этой встречи желание сделаться моряком мучило меня много лет. Я рвался к морю. Первый раз я видел его мельком в Новороссийске, куда ездил на несколько дней с отцом. Но этого было недостаточно.
Часами я просиживал над атласом, рассматривал побережья океанов, выискивал неизвестные приморские городки, мысы, острова, устья рек.
Я придумал сложную игру. Я составил длинный список пароходов со звучными именами: «Полярная звезда», «Вальтер Скотт», «Хинган», «Сириус». Список этот разбухал с каждым днём. Я был владельцем самого большого флота в мире.
Конечно, я сидел у себя в пароходной конторе, в дыму сигар, среди пёстрых плакатов и расписаний. Широкие окна выходили, естественно, на набережную. Жёлтые мачты пароходов торчали около самых окон, а за стенами шумели добродушные вязы. Пароходный дым развязно влетал в окна, смешиваясь с запахом гнилого рассола и новеньких, весёлых рогож.
Я придумал список удивительных рейсов для своих пароходов. Не было самого забытого уголка земли, куда бы они не заходили. Они посещали даже остров Тристан да-Кунью.
Я снимал пароходы с одного рейса и посылал на другой. Я следил за плаваньем своих кораблей и безошибочно знал, где сегодня «Адмирал Истомин», а где «Летучий голландец»: «Истомин» грузит бананы в Сингапуре, а «Летучий голландец» разгружает муку на Фарерских островах.
Для того чтобы руководить таким обширным пароходным предприятием, мне понадобилось много знаний. Я зачитывался путеводителями, судовыми справочниками и всем, что имело хотя бы отдалённое касательство к морю.
Тогда впервые я услышал от мамы слово «менингит».
Он дойдёт бог знает до чего со своими играми, - сказала однажды мама. - Как бы все это не кончилось менингитом.
Я слышал, что менингит - это болезнь мальчиков, которые слишком рано научились читать. Поэтому я только усмехнулся на мамины страхи.
Все окончилось тем, что родители решили поехать всей семьёй на лето к морю.
Теперь я догадываюсь, что мама надеялась вылечить меня этой поездкой от чрезмерного увлечения морем. Она думала, что я буду, как это всегда бывает, разочарован от непосредственного столкновения с тем, к чему я так страстно стремился в мечтах. И она была права, но только отчасти.
Однажды мама торжественно объявила, что на днях мы на все лето уезжаем на Чёрное море, в маленький городок Геленджик, вблизи, Новороссийска.
Нельзя было, пожалуй, выбрать лучшего места, чем Геленджик, для того чтобы разочаровать меня в моем увлечении морем и югом.
Геленджик был тогда очень пыльным и жарким городком без всякой растительности. Вся зелень на много километров вокруг была уничтожена жестокими новороссийскими ветрами - норд-остами. Только колючие кусты держи-дерева и чахлая акация с жёлтыми сухими цветочками росли в палисадниках. От высоких гор тянуло зноем. В конце бухты дымил цементный завод.
Но геленджикская бухта была очень хороша. В прозрачной и тёплой её воде плавали, как розовые и голубые цветы, большие медузы. На песчаном дне лежали пятнистые камбалы и пучеглазые бычки. Прибой выбрасывал на берег красные водоросли, гнилые поплавки-балберки от рыбачьих сетей и обкатанные волнами куски темно-зелёных бутылок.
Море после Геленджика не потеряло для меня своей прелести. Оно сделалось только более простым и тем самым более прекрасным, чем в моих нарядных мечтах.
В Геленджике я подружился с пожилым лодочником Анастасом. Он был грек, родом из города Воло. У него была новая парусная шлюпка, белая с красным килем и вымытым до седины решётчатым настилом.
Анастас катал на шлюпке дачников. Он славился ловкостью и хладнокровием, и мама иногда отпускала меня одного с Анастасом.
Однажды Анастас вышел со мной из бухты в открытое море. Я никогда не забуду того ужаса и восторга, какие я испытал, когда парус, надувшись, накренил шлюпку так низко, что вода понеслась на уровне борта. Шумящие огромные валы покатились навстречу, просвечивая зеленью и обдавая лицо солёной пылью.
Я схватился за ванты, мне хотелось обратно на берег, но Анастас, зажав трубку зубами, что-то мурлыкал, а потом спросил:
Почём твоя мама отдала за эти чувяки? Ай, хороши чувяки!
Он кивнул на мои мягкие кавказские туфли - чувяки. Ноги мои дрожали. Я ничего не ответил. Анастас зевнул и сказал:
Ничего! Маленький душ, тёплый душ. Обедать будешь с аппетитом. Не надо будет просить - скушай за папу-маму!
Он небрежно и уверенно повернул шлюпку. Она зачерпнула воду, и мы помчались в бухту, ныряя и выскакивая на гребни волн. Они уходили из-под кормы с грозным шумом. Сердце у меня падало и обмирало.
Неожиданно Анастас запел. Я перестал дрожать и с недоумением слушал эту песню:
От Батума до Сухума -Ай-вай-вай!
От Сухума до Батума -Ай-вай-вай!
Бежал мальчик, тащил ящик -Ай-вай-вай!
Упал мальчик, разбил ящик -Ай-вай-вай!
Под эту песню мы спустили парус и с разгона быстро подошли к пристани, где ждала бледная мама. Анастас поднял меня на руки, поставил на пристань и сказал:
Теперь он у вас солёный, мадам. Уже имеет к морю привычку.
Однажды отец нанял линейку, и мы поехали из Геленджика на Михайловский перевал.
Сначала щебёнчатая дорога шла по склону голых и пыльных гор. Мы проезжали мосты через овраги, где не было ни капли воды. На горах весь день лежали, зацепившись за вершины, одни и те же облака из серой сухой ваты.
Мне хотелось пить. Рыжий извозчик-казак оборачивался и говорил, чтобы я повременил до перевала - там я напьюсь вкусной и холодной воды. Но я не верил извозчику. Сухость гор и отсутствие воды пугали меня. Я с тоской смотрел на тёмную и свежую полоску моря. Из него нельзя было напиться, но, по крайней мере, можно било выкупаться в его прохладной воде.
Дорога подымалась все выше. Вдруг в лицо нам потянуло свежестью.
Самый перевал! - сказал извозчик, остановил лошадей, слез и подложил под колеса железные тормоза.
С гребня горы мы увидели огромные и густые леса. Они волнами тянулись по горам до горизонта. Кое-где из зелени торчали красные гранитные утёсы, а вдали я увидел вершину, горевшую льдом и снегом.
Норд-ост сюда не достигает, - сказал извозчик. - Тут рай!
Линейка начала спускаться. Тотчас густая тень накрыла нас. Мы услышали в непролазной чаще деревьев журчание воды, свист птиц и шелест листвы, взволнованной полуденным ветром.
Чем ниже мы спускались, тем гуще делался лес и тенистее Дорога. Прозрачный ручей уже бежал по её обочине. Он перемывал разноцветные камни, задевал своей струёй лиловые цветы и заставлял их кланяться и дрожать, но не мог оторвать от каменистой земли и унести с собою вниз, в ущелье.
Мама набрала воды из ручья в кружку и дала мне напиться. Вода была такая холодная, что кружка тотчас покрылась потом.
Пахнет озоном, - сказал отец.
Я глубоко вздохнул. Я не знал, чем пахло вокруг, но мне казалось, что меня завалили ворохом веток, смоченных душистым дождём.
Лианы цеплялись за наши головы. И то тут, то там на откосах дороги высовывался из-под камня какой-нибудь мохнатый цветок и с любопытством смотрел на нашу линейку и на серых лошадей, задравших головы и выступавших торжественно, как на параде, чтобы не сорваться вскачь и не раскатить линейку.
Вон ящерица! - сказала мама. Где?
Вон там. Видишь орешник? А налево - красный камень в траве. Смотри выше. Видишь жёлтый венчик? Это азалия. Чуть правее азалии, на поваленном буке, около самого корня. Вон, видишь, такой мохнатый рыжий корень в сухой земле и каких-то крошечных синих цветах? Так вот рядом с ним.
Я увидел ящерицу. Но пока я её нашёл, я проделал чудесное путешествие по орешнику, красному камню, цветку азалии и поваленному буку.
«Так вот он какой, Кавказ!» - подумал я.
Тут рай! - повторил извозчик, сворачивая с шоссе на травянистую узкую просеку в лесу. - Сейчас распряжём коней, будем купаться.
Мы въехали в такую чащу и ветки так били нас по лицу, что пришлось остановить лошадей, слезть с линейки и идти дальше пешком. Линейка медленно ехала следом за нами.
Мы вышли на поляну в зелёном ущелье. Как белые острова, стояли в сочной траве толпы высоких одуванчиков. Под густыми буками мы увидели старый пустой сарай. Он стоял на берегу шумной горной речонки. Она туго переливала через камни прозрачную воду, шипела и уволакивала вместе с водой множество воздушных пузырей.
Пока извозчик распрягал и ходил с отцом за хворостом для костра, мы умылись в реке. Лица наши после умывания горели жаром.
Мы хотели тотчас идти вверх по реке, но мама расстелила на траве скатерть, достала провизию и сказала, что, пока мы не поедим, она никуда нас не пустит.
Я, давясь, съел бутерброды с ветчиной и холодную рисовую кашу с изюмом, но оказалось, что я совершенно напрасно торопился - упрямый медный чайник никак не хотел закипать на костре. Должно быть, потому, что вода из речушки была совершенно ледяная.
Потом чайник вскипел так неожиданно и бурно, что залил костёр. Мы напились крепкого чая и начали торопить отца, чтобы идти в лес. Извозчик сказал, что надо быть настороже, потому что в лесу много диких кабанов. Он объяснил нам, что если мы увидим вырытые в земле маленькие ямы, то это и есть места, где кабаны спят по ночам.
Мама заволновалась - идти с нами она не могла, у неё была одышка, - но извозчик успокоил её, заметив, что кабана нужно нарочно раздразнить, чтобы он бросился на человека.
Мы ушли вверх по реке. Мы продирались сквозь чащу, поминутно останавливались и звали друг друга, чтобы показать гранитные бассейны, выбитые рекой, - в них синими искрами проносилась форель, - огромных зелёных жуков с длинными усами, пенистые ворчливые водопады, хвощи выше нашего роста, заросли лесной анемоны и полянки с пионами.
Боря наткнулся на маленькую пыльную яму, похожую на детскую ванну. Мы осторожно обошли её. Очевидно, это было место ночёвки дикого кабана.
Отец ушёл вперёд. Он начал звать нас. Мы пробрались к нему сквозь крушину, обходя огромные мшистые валуны.
Отец стоял около странного сооружения, заросшего ежевикой. Четыре гладко обтёсанных исполинских камня были накрыты, как крышей, пятым обтёсанным камнем. Получался каменный дом. В одном из боковых камней было пробито отверстие, но такое маленькое, что даже я не мог в него пролезть. Вокруг было несколько таких каменных построек.
Это долмены, - сказал отец. - Древние могильники скифов. А может быть, это вовсе и не могильники. До сих пор учёные не могут узнать, кто, для чего и как строил эти долмены.
Я был уверен, что долмены - это жилища давно вымерших карликовых людей. Но я не сказал об этом отцу, так как с нами был Боря: он поднял бы меня на смех.
В Геленджик мы возвращались совершенно сожжённые солнцем, пьяные от усталости и лесного воздуха. Я уснул и сквозь сон почувствовал, как на меня дохнуло жаром, и услышал отдалённый ропот моря.
С тех пор я сделался в своём воображении владельцем ещё одной великолепной страны - Кавказа. Началось увлечение Лермонтовым, абреками, Шамилем. Мама опять встревожилась.
Сейчас, в зрелом возрасте, я с благодарностью вспоминаю о детских своих увлечениях. Они научили меня многому.
Но я был совсем не похож на захлёбывающихся слюной от волнения шумных и увлекающихся мальчиков, никому не дающих покоя. Наоборот, я был очень застенчивый и со своими увлечениями ни к кому не приставал.
Повесть о жизни
Однажды весной я сидел в Мариинском парке и читая "Остров сокровищ" Стивенсона. Сестра Галя сидела рядом и тоже читала. Ее летняя шляпа с зелеными лентами, лежала на скамейке. Ветер шевелил ленты, Галя была близорукая, очень доверчивая, и вывести её из добродушного состояния было почти невозможно.
Утром прошел дождь, но сейчас над нами блистало чистое небо весны. Только с сирени слетали запоздалые капли дождя.
Девочка с бантами в волосах остановилась против нас и начала прыгать через веревочку.
И вот в эту минуту я увидел человека, который надолго отравил меня мечтами о несбыточном моем будущем.
По аллее легко шел высокий гардемарин с загорелым спокойным лицом. Прямой черный палаш висел у него на лакированном поясе. Черные ленточки с бронзовыми якорями развевались от тихого ветра. Он был весь в черном. Только яркое золото нашивок оттеняло его строгую форму.
В сухопутном Киеве, где мы почти не видели моряков, это был пришелец из далекого легендарного мира крылатых кораблей, фрегата "Паллада", из мира всех океанов, морей, всех портовых городов, всех ветров и всех очарований, какие связаны были с живописным трудом мореплавателей. Старинный палаш с черным эфесом как будто появился в Мариинском парке со страниц Стивенсона.
Гардемарин прошел мимо, хрустя по песку. Я поднялся и пошел за ним. Галя по близорукости не заметила моего исчезновения.
Вся моя мечта о мо....
Но, с другой стороны, возможность говорить о себе у писателя ограниченна. Он связан многими трудностями, в первую очередь – неловкость давать оценку собственным книгам.
Поэтому я выскажу лишь некоторые соображения относительно своего творчества и вкратце передам свою биографию. Подробно рассказывать ее нет смысла. Вся моя жизнь с раннего детства до начала тридцатых годов описана в шести книгах автобиографической «Повести о жизни», которая включена в это собрание. Работу над «Повестью о жизни» я продолжаю и сейчас.
Родился я в Москве 31 мая 1892 года в Гранатном переулке, в семье железнодорожного статистика.
Отец мой происходит из запорожских казаков, переселившихся после разгрома Сечи на берега реки Рось, около Белой Церкви. Там жили мой дед – бывший николаевский солдат – и бабка-турчанка.
Несмотря на профессию статистика, требующую трезвого взгляда на вещи, отец был неисправимым мечтателем и протестантом. Из-за этих своих качеств он не засиживался подолгу на одном месте. После Москвы служил в Вильно, Пскове и, наконец, осел, более или менее прочно, в Киеве.
Моя мать – дочь служащего на сахарном заводе – была женщиной властной и суровой.
Семья наша была большая и разнообразная, склонная к занятиям искусством. В семье много пели, играли на рояле, спорили, благоговейно любили театр.
Учился я в 1-й киевской классической гимназии.
Когда я был в шестом классе, семья наша распалась. С тех пор я сам должен был зарабатывать себе на жизнь и учение. Перебивался я довольно тяжелым трудом – так называемым репетиторством.
В последнем классе гимназии я написал первый рассказ и напечатал его в киевском литературном журнале «Огни». Это было, насколько я помню, в 1911 году.
После окончания гимназии я два года пробыл в Киевском университете, а затем перевелся в Московский университет и переехал в Москву.
В начале мировой войны я работал вожатым и кондуктором на московском трамвае, потом – санитаром на тыловом и полевом санитарных поездах.
Осенью 1915 года я перешел с поезда в полевой санитарный отряд и прошел с ним длинный путь отступления от Люблина в Польше до городка Несвижа в Белоруссии.
В отряде из попавшегося мне обрывка газеты я узнал, что в один и тот же день убиты на разных фронтах оба мои брата. Я вернулся к матери – она в то время жила в Москве, но долго высидеть на месте не смог и снова начал свою скитальческую жизнь: уехал в Екатеринослав и работал там на металлургическом заводе Брянского общества, потом переехал в Юзовку на Новороссийский завод, а оттуда в Таганрог на котельный завод Нев-Вильдэ. Осенью 1916 года ушел с котельного завода в рыбачью артель на Азовском море.
В свободное время я начал писать в Таганроге свой первый роман – «Романтики».
Потом переехал в Москву, где меня застала Февральская революция, и начал работать журналистом.
Мое становление человека и писателя происходило при Советской власти и определило весь мой дальнейший жизненный путь.
В Москве я пережил Октябрьскую революцию, стал свидетелем многих событий 1917-1919 годов, несколько раз слышал Ленина и жил напряженной жизнью газетных редакций.
Но вскоре меня «завертело». Я уехал к матери (она снова перебралась на Украину), пережил в Киеве несколько переворотов, из Киева уехал в Одессу. Там я впервые попал в среду молодых писателей – Ильфа, Бабеля, Багрицкого, Шенгели, Льва Славина.
Но мне не давала покоя «муза дальних странствий», и я, пробыв два года в Одессе, переехал в Сухум, потом – в Батум и Тифлис. Из Тифлиса я ездил в Армению и даже попал в Cеверную Персию.
В 1923 году вернулся в Москву, где несколько лет проработал редактором РОСТА. В то время я уже начал печататься.
Первой моей «настоящей» книгой был сборник рассказов «Встречные корабли» (1928).
Летом 1932 года я начал работать над книгой «Кара-Бугаз». История написания «Кара-Бугаза» и некоторых других книг изложена довольно подробно в повести «Золотая роза». Поэтому здесь я на этом останавливаться не буду.
После выхода в свет «Кара-Бугаза» я оставил службу, и с тех пор писательство стало моей единственной, всепоглощающей, порой мучительной, но всегда любимой работой.
Ездил я по-прежнему много, даже больше, чем раньше. За годы своей писательской жизни я был на Кольском полуострове, жил в Мещёре, изъездил Кавказ и Украину, Волгу, Каму, Дон, Днепр, Оку и Десну, Ладожское и Онежское озера, был в Средней Азии, в Крыму, на Алтае, в Сибири, на чудесном нашем северо-западе – в Пскове, Новгороде, Витебске, в пушкинском Михайловском.
Во время Великой Отечественной войны я работал военным корреспондентом на Южном фронте и тоже изъездил множество мест. После окончания войны я опять много путешествовал. В течение 50-х и в начале 60-х годов я посетил Чехословакию, жил в Болгарии в совершенно сказочных рыбачьих городках Несебре (Мессемерия) и Созополе, объехал Польшу от Кракова до Гданьска, плавал вокруг Европы, побывал в Стамбуле, Афинах, Роттердаме, Стокгольме, в Италии (Рим, Турин, Милан, Неаполь, Итальянские Альпы), повидал Францию, в частности Прованс, Англию, где был в Оксфорде и шекспировском Страдфорде. В 1965 году из-за своей упорной астмы я довольно долго прожил на острове Капри – огромной скале, сплошь заросшей душистыми травами, смолистой средиземноморской сосной – пинией и водопадами (вернее, цветопадами) алой тропической бугенвилии, – на Капри, погруженном в теплую и прозрачную воду Средиземного моря.
Впечатления от этих многочисленных поездок, от встреч с самыми разными и – в каждом отдельном случае – по-своему интересными людьми легли в основу многих моих рассказов и путевых очерков («Живописная Болгария», «Амфора», «Третья встреча», «Толпа на набережной», «Итальянские встречи», «Мимолетный Париж», «Огни Ла-Манша» и др.), которые читатель тоже найдет в этом Собрании сочинений.
Написал я за свою жизнь немало, но меня не покидает ощущение, что мне нужно сделать еще очень много и что глубоко постигать некоторые стороны и явления жизни и говорить о них писатель научается только в зрелом возрасте.
В юности я пережил увлечение экзотикой.
Желание необыкновенного преследовало меня с детства.
В скучной киевской квартире, где прошло это детство, вокруг меня постоянно шумел ветер необычайного. Я вызывал его силой собственного мальчишеского воображения.
Ветер этот приносил запах тисовых лесов, пену атлантического прибоя, раскаты тропической грозы, звон эоловой арфы.
Но пестрый мир экзотики существовал только в моей фантазии. Я никогда не видел ни темных тисовых лесов (за исключением нескольких тисовых деревьев в Никитском ботаническом саду), ни Атлантического океана, ни тропиков и ни разу не слышал эоловой арфы. Я даже не знал, как она выглядит. Гораздо позже из записок путешественника Миклухо-Маклая я узнал об этом. Маклай построил из бамбуковых стволов эолову арфу около своей хижины на Новой Гвинее. Ветер свирепо завывал в полых стволах бамбука, отпугивал суеверных туземцев, и они не мешали Маклаю работать.
Моей любимой наукой в гимназии была география. Она бесстрастно подтверждала, что на земле есть необыкновенные страны. Я знал, что тогдашняя наша скудная и неустроенная жизнь не даст мне возможности увидеть их. Моя мечта была явно несбыточна. Но от этого она не умирала.